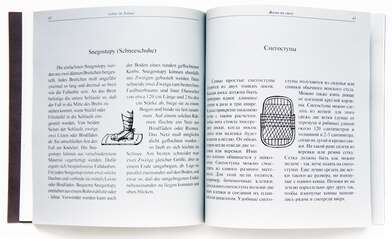«Жизнь на снегу»
Жизнь на снегу заканчивается трагически
Развитие сюжета выставки на редкость отчетливо, как в классической трагедии. Первый зал — «Рассказ писательницы». Фотография в огромной деревянной раме: зрителя пронзает устрашающе просветленный взгляд пожилой крестьянки, рука ее покоится на книге. Внушительный деревянный орел распахнул свои крылья, в его когтях золотой ключик счастья. На полке — поленья, представляющие стадии высвобождения Буратино: на наших глазах торжественно рождается Новый Человек. Часть вторая — «Жизнь на снегу». Такой же, но уже металлический орел одиноко стоит, покрытый беспрерывно нарастающим слоем инея. Жизнь замерзает. Золотой ключик не помог. На стенах — двадцать древнего вида гравюр с изображением снегоступов, волокуш, ледяных домов и других предметов обихода в условиях ледникового холода. Восторг движения к будущему охлажден.
О чем все это, отечественному зрителю объяснять не нужно. Великая эпоха, свидетелем которой он был, осталась в памяти не только пластической конкретностью деталей, но и неким постепенно угасающим мотивом. Для его воплощения сегодня нужно искусство временное, а не пространственное: стилизация форм, по которой опознается (хоть и не сводится к ней) соц-арт, невозможна, когда формы уже не развиваются. В визуальных же искусствах развертывание во времени требует инсталляции, наиболее литературной формы сегодняшнего искусства. И это не чистая пластическая конструкция нового, а осложненная множеством ассоциаций интеллектуальная реконструкция бывшего; для Макаревича и Елагиной — археология культуры.
Инсталляция есть всегда «текст о тексте», а в данном случае конкретным источником всех частей выставки стали тексты, найденные в буквальном или переносном смысле на помойке. Такой, во всех смыслах, находкой стала автобиографическая повесть Е. Новиковой-Вашенцевой, народной писательницы 30-х, порожденной Горьким, как Голем — каббалистом. «Пробуждение гения» началось в ней с внезапного, как удар молнии, удара поленом по голове, нанесенного злым мужем. «Я прихворнула, и меня перевели на пенсию. Пригорюнилась я, не знаю, что делать. Тянет к писанию». Второй текст — инструкция для солдат Красной армии осени 1941 года — «В большом сугробе плотно слежавшегося снега можно вырыть снежную пещеру. Тоннель, ведущий в пещеру, сделай возможно длиннее и закончи его в полу пещеры... Зима страшна тому, кто к ней не привык и не знает, как приспособиться к жизни на снегу».
Сами по себе эти тексты обладают столь фантастической бытийной силой, что ни о каком соревновании с такой подлинностью и, тем более, иронизировании над нею речи быть не может. Та линия современного художественного сознания, которую представляют не только Макаревич и Елагина, но и, например, писатель Владимир Сорокин, стремится не рационально описать, не проанализировать, а словно бы ответить на полученное культурой задание. Задание, до сих пор не выполненное, поскольку и книга пожилой увечной крестьянки, и указания красноармейцам, как правильно похоронить свои останки в снегу, принадлежат не сфере профессиональной культуры, но тому слою между нею и самой действительностью, который в ХХ веке породил самые поразительные, причудливые явления, вызывающие зависть посттоталитарных поколений. Сравниться с ними может разве что такой автор, как Платонов, имя которого сразу вспоминается в атмосфере этой выставки.
Макаревич и Елагина — художники-мифологи. В их инсталляциях царит тяжелый дух романтической сказки, сказки с плохим концом. Они описывают мир идеологии — но на том фундаментальном уровне, когда от нее остается лишь проблема выживания. Местно-экзотическое (волокуши и снегоступы) предстает тут как первобытно-универсальное. «Стеклянный, оловянный, деревянный» — три величественных исключения, описывающие «природу вещей», у Макаревича и Елагиной звучат как «деревянный, снежный, рыбный». Исключительное, неправильное, странное и есть самое существенное. Именно сочетание универсализма и маргинальности, важности и несущественности составило не только обаяние, но и славу того рефлектирующего искусства 70-х годов, из которого и вышли Макаревич и Елагина, члены легендарной концептуалистской группы «Коллективные действия». После того как Россию де-юре или де-факто покинули крупнейшие представители этой линии отечественного искусства, а иные оставшиеся сочли себя уволенными в запас, Макаревич и Елагина стоят на своем посту в ожидании исторически значимого разводящего, которого пока не видно. В их инсталляциях заметны, может быть, усталость и декаданс, но это декаданс великой эпохи, с которой они бесконечно и глубоко пессимистически прощаются.
Екатерина Дёготь